Время как лента М…
21 апреля, 2012
АВТОР: Игорь Фунт
-
Не трогайте регулятор веры,
вообще отойдите от гроба,
оставьте в покое.
Дайте дослушать, как погасает
в бесплотном театре заката
бесплатное море, полотна Европы, бесплатное поле,
за семь шекелей пыльная Яффа
и Ялта в вечерних огнях –
пересадка на Галлиполи.
А. Грицман
-
История, точнее – история, с которой мы соприкасаемся, похожа на засоренный клозет. Промываешь его, промываешь, а дерьмо всё равно всплывает наверх.
Гюнтер Грасс, «Траектория краба»
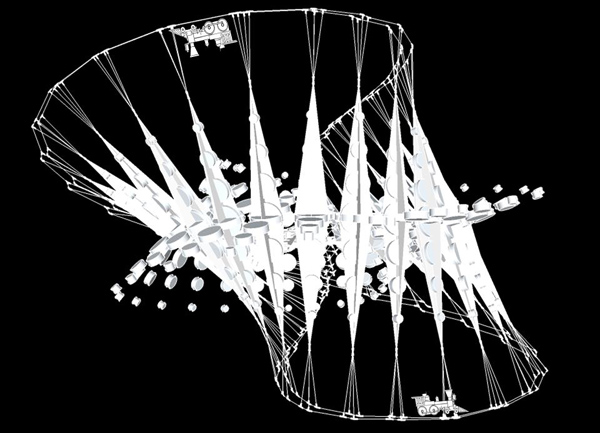
Дедушка умирал.
Пашка на цыпочках курсировал мимо дедовой комнаты, притормаживал, шёл дальше, притормаживал, становился, задевая ухом косяк, вслушиваясь, опять уходил, вновь возвращался, брался за ручку двери, озираясь, боясь чего-то, и… Из-за двери доносилось гулко, хрипло:
– Па-а-ша-а.
Это хрипит оттуда «дедо», сипло, надсадно; но без мамы навещать дедуню нельзя, и мальчик делал ноги. Убегал в свою комнату, бросался лицом в подушку и ревел, выл нескромно, ломающимся голосом, невыносимо, не по-детски – дедо был для него всем.
Деду стукнуло 55. Какой же это дед? – хотя Пашка в возрастах тогда не разбирался; тогда, долгих десять лет назад… Для него дед возвышался покрытым седыми снегами Килиманджаро, исполином, мохнатым чудилищем с большими тёплыми лапами, источающим запах моря, рыбы, сухофруктов и доброты. Дед с головой накрывал Пашку непререкаемым авторитетом, знанием всего и вся, видением самого мелкого даже, мелочного, потому что у него всегда припрятаны с собой волшебные очки, в карманах халата колдуют волшебные руки, особенно под Новый год и на Рождество, а в рукавах расчудесные, появляющиеся из ниоткуда подарки.
Он, конечно, подрос за последние год-два, но когда был чуть поменьше, дедовы ручищи крутили внука вертолётом по всему дому без права на возврат, на остановку, потому что сразу из «вертолёта» – взмывали под потолок, что называлось «парашютистами», и только потом – дозаправка до отвала во вкусно пахнущей кухне. Пашка не помнил, чтобы с дедом он когда-нибудь расстраивался, плакал, чтоб с дедом что-либо не получалось – всё получалось! – и через лупу солнце бумагу прожигало, и конфеты в карманах всегда ну точно шуршали, и табак очень вреден, но последний раз можно, и даже родители беспрекословно подчинялись деду, что уж говорить о самом Пашке – дедо был для него всем.
Пашка любил слушать дедовы рассказы про бабушку, к сожалению, ставшую для внука лишь сказочной страничкой – сам он бабулю не представлял, разве что по скудным фотографиям. От бабушки передалась по наследству затёртая до дыр книжка народных песен, по которой они, стар и млад, частенько спивали дуэтом, таким образом дед поминал рано ушедшую жену, а Пашка получал очередную порцию нежности и любви в виде замечательных ласковых, накрепко въевшихся на всю последующую взрослую жизнь песен.
Там, за дверью, возлежали на смертном одре, и Пашка это чувствовал – вольно или невольно оказываясь свидетелем родительских, полушёпотом, кухонных затрапезных бесед.
– Па-а-ша-а, – еле раздавалось из дедовой комнаты, но туда нельзя, вернее, можно, только вместе с отцом или мамой – таков семейный наказ, с полгода как выпущенный специально для сына, внука. «Травмировать», «ни к чему видеть», «пора в хоспис» – слышано сотни раз и выучено наизусть, – деду, по-видимому, осталось «недолго».
Пашке десять, он всё понимает, ощущает. Даже пропускал поначалу уроки с расстройства, но отец долго и обстоятельно с ним беседовал и убедил, что разгильдяйство ни к чему, школа тут ни при чём, и деду бы очень не понравилось плохое поведение внука; он соглашался коротким кивком в пол и терпеливо продолжал заниматься ради здоровья деда – вдруг поможет? – ведь так сказал отец: «Надо учиться несмотря ни на что, это поддержит, подсобит справиться с болезнью».
*
В тот день прибежал домой рано – скоро осенние каникулы, уроков задали мало – и сразу подкрался к двери дедовой спальни. Там молчок. Постоял, переминаясь. Отошёл. Вновь к двери. Взялся за ручку, нажал, приоткрыл – не заперто, осторожно заглянул.
– Заходи, внучек, – тихо подозвал дед.
Пашка заплыл в комнату – просто стоял рядом с кроватью, и всё – лицо серьёзное, в веснушках. Дед поначалу заговорил что-то о лекарствах, потом замолк, утомившись, зажав в своей ладони ладошку внука. Пашка помнил могучую дедовскую длань, большущую, сильную, горячую; сейчас было не так, эта была лёгкой, слабой, маленькой, холодной – он терпел, не ревел, просто так стоял, и всё. Стоял, не зная, что делать.
Дед, отдохнув, вновь открыл глаза, прошептал:
– Умираю.
Пашка знал, что помирать плохо, но не разбирался в значении слов «смерть», «угасание», «лучший мир», поэтому не пугался и не вырывался из дедовой холодной ладони.
– Умираю, – повторил дед и тихо вздохнул, урча внутренностями.
– Вот что, внучек, – показалось, дед оживился.
Пашка поднял влажные веки, потом, поддавшись слабому посылу больного, нагнулся и обнял его. Мочи терпеть больше не оставалось, и он заревел.
– Не плачь, милый… Вот что я хочу тебе сказать. Давай договоримся об одной вещи, хорошо?
Пашка размазал слёзы по лицу, мотнул согласно головой. Дед продолжил:
– Запомни. Пройдёт много времени, и однажды, будучи взрослым человеком, ты вспомнишь наш разговор. Просто запомни его, – дед замолчал, собираясь с мыслями, силами.
Пашка успокоился, продолжая держать деда за руку, внимательно слушая.
– Знаешь, дорогой, конечно, мне неизвестно, что будет там… Но я хочу тебе сказать: где бы я ни очутился, я всегда буду о тебе думать и постараюсь, как это получится, быть с тобой рядом и помогать тебе, всегда.
– Паша, – раздалось из коридора. – Ты где?
Пашка вздрогнул, оглянулся: в комнату зашла мама.
– Как ты, пап? – она совсем даже нестрого обняла сына за плечи, поцеловала его в макушку и присела на дедову кровать: – Как ты? – повторила она.
Дед безмолвствовал, закрыв глаза.
– Он устал, пойдём, сына…
Назавтра, нарушая родительский запрет, Пашка сразу метнулся в дедову комнату.
– Дедо, – шёпотом позвал он. – Дедо.
Постоял рядом, внимая неровному, с полухрапом, дыханию дедули.
Поправил больному одеяло, как это всегда делала мать, поглядел туда-сюда, швыркнул носом. Запах был, конечно, кисловат, нехорош, честно сказать, но к запаху они давно привыкли – его ведь не удержать в одной только комнате – запах жил с ними по всему дому, и это слабо сказано, но иначе нельзя, иначе не было б семьи; и то, что дед стал совсем по-другому пахнуть, смущая поначалу Пашку, обернулось потом овеществлённым проявлением заботы, любви, но уже любви по-взрослому, без хихиканья и детства, таявшего вместе с угасавшим дедой.
– Паша, – очнулся дед.
Пашка стоял уже у двери. Вернулся, вслушиваясь, не пришёл ли кто с улицы.
– Паш, помнишь парашютистов?
– Да, – с придыханием.
– Помнишь, как ты дотягивался до люстры, и она качалась, как луна?
– Я всё время промахивался, – ответил Пашка. Если он не доставал до «луны», то не становился героем-космонавтом, довольствуясь лишь званием простого «парашютиста». Но в последнее время долетать до луны удавалось всё чаще, и это было счастьем.
– И бабушкину книгу… – продолжал дед.
Конечно, никогда не забудутся их концерты. А книжка с песнями лежит у него под подушкой, и, казалось, согревает по ночам. В памяти не отложилось слов тех песен, но понятия о тёплом семейном очаге, беззаветной преданной дружбе, любви, храбрых красноармейцах, гибнущих за Отчизну, бескрайних полях, равнинах, сказочных лесах и деревушках с честными добрыми людьми намертво въелись в неокрепшую ещё душу.
– И календарь…
Да-да – календарь – это было их с дедом изобретение: дед научил внука торопить время, предсказывая будущее. К примеру, в понедельник они договаривались, что в конце недели после уроков пойдут в кино, Пашка обводил «пятницу» кругом, и все мысли с того момента работали только на долгожданный поход с дедом в кинотеатр – ведь там будет немыслимое количество вкусных неожиданностей. Но для этого ни в коем случае нельзя было схватить трояк или, не дай бог, двояк… И Пашка корпел, торопя минуты вскачь, и минутки ходили по струнке, повинуясь, незаметно придвигая пятницу ближе и ближе.
– Да-да, дедо, – Пашка сидел на кровати, опасливо поглядывая в сторону двери.
– И футбольный мяч.
– Он в коридоре… – парень представил забытый, закатившийся в далёкий угол мяч, осиротевший без «великого тренера», каждодневно занимавшегося со знаменитым футболистом Пашкой Сунцовым в коридоре первого этажа дома. Как они любили этот дом!
– Всё, что мы с тобой делали – это наше, твоё и моё; ты должен запомнить сегодняшний разговор; когда повзрослеешь – поймёшь зачем.
– Запомнить? – не уразумел внук.
– Да-да, ты обязательно потом его вспомнишь.
– И что, что тогда?
Дед помолчал, вновь собираясь с силами:
– И тогда ты меня увидишь.
В дом кто-то зашёл снаружи, и дедо подтолкнул Пашку на выход:
– Обязательно.
Пока нехотя брёл к себе в комнату, обдумывал слова деда, действительно пытаясь их затвердить: «Обязательно запомнить», – как зубрил перед контрольными формулы. Но, открыв дневник и взявшись за уроки, тут же всё позабыл: бесконечная грусть так же быстро, волной, отпускала, схлынув, как накатывала.
Обычно Пашка, толковый, башковитый, скоро, махом разбирался с задачками и «русским» и рвал когти на улицу – неустроенная отсутствием деда неуёмная мальчишеская душа не могла долго болтаться неприкаянной в ожидании неизбежного – на улице он становился простым весёлым пацаном, вливаясь в ватагу себе подобных.
Прошло десять лет. ЧИТАТЬ ДАЛЬШЕ

